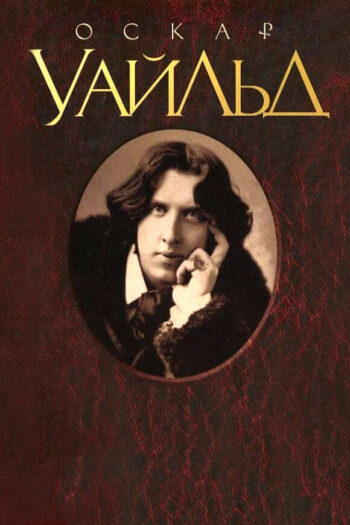ГЛАВА XVII
Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и назавтра ожидали еще гостей.
— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?.. Это замечательная мысль.
— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.
— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»… или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам… Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.
— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.
— Принц Парадокс, — сказал Дориан.
— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.
— И слышать не хочу о таком имени, — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.
— Короли не должны отрекаться, — тоном предостережения произнесли красивые губки.
— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?
— Да.
— Но я провозглашаю истины будущего!
— А я предпочитаю заблуждения настоящего, — отпарировала герцогиня.
— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.
— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.
— Я никогда не сражаюсь против Красоты, — сказал он с галантным поклоном.
— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.
— Полноте, Глэдис! Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.
— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня. А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?
— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.
— Значит, вы не любите нашу страну?
— Я живу в ней.
— Чтобы можно было усерднее ее хулить?
— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?
— Что же там о нас говорят?
— Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.
— Это ваша острота, Гарри?
— Дарю ее вам.
— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.
— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.
— Они — люди благоразумные.
— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.
— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.
— Нам их навязали, Глэдис.
— Но мы с честью несли их бремя.
— Не дальше как до Фондовой биржи.
Герцогиня покачала головой.
— Я верю в величие нации.
— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.
— В нем — залог развития.
— Упадок мне милее.
— А как же искусство? — спросила Глэдис.
— Оно — болезнь.
— А любовь?
— Иллюзия.
— А религия?
— Распространенный суррогат веры.
— Вы скептик.
— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.
— Да кто же вы?
— Определить — значит ограничить.
— Ну, дайте мне хоть нить!..
— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.
— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.
— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.
— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.
— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.
— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.
— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.
— А за что же она на вас сердится, герцогиня?
— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.
— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.
— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.
— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.
— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой. — А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы, мужчины, любите глазами… Если только вы вообще когда-нибудь любите.
— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, — сказал Дориан.
— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.
— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри. — Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.
— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.
— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.
Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.
— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.
Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой.
— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.
— Даже когда он не прав?
— Гарри всегда прав, герцогиня.
— И что же, его философия помогла вам найти счастье?
— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.
— И находили, мистер Грей?
— Часто. Слишком часто. Герцогиня сказала со вздохом:
— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.
— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня, — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.
— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.
— Если бы не это, так не было бы и борьбы.
— Значит, грек идет на грека?
— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.
— И потерпели поражение.
— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.
— Эге, вы скачете, бросив поводья!
— Только в скачке и жизнь, — был ответ.
— Я это запишу сегодня в моем дневнике.
— Что именно?
— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.
— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.
— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.
— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.
— А вы знаете, что у вас есть соперница?
— Кто?
— Леди Нарборо, — смеясь, шепнул лорд Генри, — она в него положительно влюблена.
— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.
— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!
— Нас учили мужчины.
— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.
— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.
— Вы — сфинксы без загадок. Герцогиня с улыбкой смотрела на него.
— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.
— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.
— Это было бы преждевременной капитуляцией.
— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.
— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.
— Подобно парфянам?
— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.
— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.
Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.
— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.
— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.
— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.
Он пошел к себе переодеваться.
За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.